Двойка для него была беловатая, девятка представляла собой камень с углом, а все когда-либо виденное и слышанное навечно занимало свое место в его памяти. Уроженец Торжка Соломон Шерешевский был уникумом, благодаря которому и в современном мире учатся запоминать и забывать.
Это было в 1929 году. В редакции одной московской газеты шла планерка, редактор раздавал задания сотрудникам. И обратил внимание на то, что один из журналистов, который пришел в газету совсем недавно, ничего не записывает в отличие от остальных. В ответ на замечание редактора новенький заявил, что вообще никогда ничего не записывает – у него прекрасная память, и он все «держит в голове». Редактор решил испытать дерзкого сотрудника. Вытащил из шкафа несколько книг и стал читать отрывки из них, перемежая энциклопедии с трудами классиков марксизма и отрывками из русской классики. Молодой человек без ошибок воспроизвел все прочитанные отрывки. Редактор был поражен. «Как вас зовут, чудо природы?», – спросил он сотрудника. «Соломон Шерешевский», – ответил тот.
У этой истории было продолжение, но пока – несколько слов о том, кто такой Соломон Шерешевский. В Торжке в конце XIX века был известен книжный магазин Шерешевских, еврейской семьи, в которой было девять детей. Семья была очень религиозной, отец заставлял детей заучивать наизусть огромные фрагменты из Торы и Талмуда. Ни родители, ни братья и сестры самого Соломона (он был вторым ребенком в семье и родился в Торжке в 1892 году) не отличались какими-то ярко выраженными способностями – они были начитанными культурными людьми. Тексты молитв читались на иврите, языке иудейских богослужений, и маленький Соломон запоминал их, даже не зная языка. Спустя много лет он мог безошибочно повторить каждую молитву.
Позже, уже став взрослым, он будет рассказывать о своих младенческих воспоминаниях – цвета, ощущения, чувство движения. Все это он хранил в памяти с годовалого возраста. В школе Шерешевский не считался каким-либо выдающимся учеником. Его способности к запоминанию уроков, литературных произведений оставались незамеченными учителями. Одновременно мальчик получал музыкальное образование по классу скрипки – здесь за ним признавали серьезное дарование и предрекали успешное будущее. После окончания музыкального училища Соломон получил в подарок дорогую скрипку ручной работы, но пользоваться ею довелось недолгое время. Вскоре у юноши развилась болезнь, которая привела к осложнению, – одно ухо перестало слышать. С планами о музыкальной карьере пришлось расстаться.
 Он поступил на медицинский факультет Рижского политехнического института, но бросил – требовалось работать, чтобы содержать семью. Уже в двадцать один год Шерешевский стал отцом семейства, он женился на Аиде Рейнберг, выпускнице Института благородных девиц. В браке родился сын Михаил. Пришлось искать способы заработка – и Соломон сменил самые разные занятия: он был наборщиком в типографии и страховым агентом, писал сатирические стихи для разных изданий и играл на фортепьяно в кинотеатрах. Но все в его жизни круто изменилось, когда он пришел работать в редакцию газеты.
Он поступил на медицинский факультет Рижского политехнического института, но бросил – требовалось работать, чтобы содержать семью. Уже в двадцать один год Шерешевский стал отцом семейства, он женился на Аиде Рейнберг, выпускнице Института благородных девиц. В браке родился сын Михаил. Пришлось искать способы заработка – и Соломон сменил самые разные занятия: он был наборщиком в типографии и страховым агентом, писал сатирические стихи для разных изданий и играл на фортепьяно в кинотеатрах. Но все в его жизни круто изменилось, когда он пришел работать в редакцию газеты.
Тот день, когда редактор газеты (к сожалению, история не сохранила ни его имени, ни даже названия газеты, в редакции которой происходило это испытание) первым обратил внимание на необычные мнемонические способности Соломона Шерешевского, изменил его судьбу. Потому что редактор близко знал Александра Лурию, советского врача-невропатолога, специалиста по лечению расстройств памяти. К нему редактор и направил необычного сотрудника. Лурия поговорил с Шерешевским и сообщил, что способности Шерешевского запоминать представляют несомненный научный интерес. Приступая к исследованиям, по его собственному признанию, он никак не мог ожидать, что работа вызовет у него «состояние смущения и озадаченности, на этот раз не у испытуемого, а у экспериментатора».
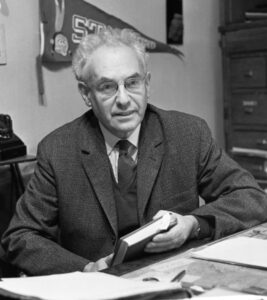 Впоследствии Лурия будет вспоминать, что при первом знакомстве Шерешевский (Лурия называл его «пациентом Ш») производил впечатление человека несколько замедленного. Он не сразу отвечал на вопросы, старался читать медленнее, чтобы расставить образы и слова по своим местам. Но вскоре выяснилось, что ни по объему, ни по сроку сохранения в памяти мнемонические способности «пациента Ш» практически не имеют пределов. Он помнил все – длинные последовательности слов, в том числе прочитанные или услышанные на других языках, таблицы цифр, любые наборы символов.
Впоследствии Лурия будет вспоминать, что при первом знакомстве Шерешевский (Лурия называл его «пациентом Ш») производил впечатление человека несколько замедленного. Он не сразу отвечал на вопросы, старался читать медленнее, чтобы расставить образы и слова по своим местам. Но вскоре выяснилось, что ни по объему, ни по сроку сохранения в памяти мнемонические способности «пациента Ш» практически не имеют пределов. Он помнил все – длинные последовательности слов, в том числе прочитанные или услышанные на других языках, таблицы цифр, любые наборы символов.
Первым заданием стало запомнить 50 слов в течение 30 секунд, и Шерешевский с легкостью это выполнил – причем хранил в памяти эту последовательность и позже – как будто убрал информацию туда, откуда ее всегда можно с легкостью извлечь.
С психологом Шерешевский будет сотрудничать на протяжении нескольких десятилетий. Уже после смерти Соломона ученый выпустит «Маленькую книжку о большой памяти», где опишет феноменальные способности Шерешевского и историю их совместных исследований. Александр Лурия предложил убедиться в феноменальных способностях Шерешевского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, который пришел в восторг и даже хотел написать сценарий фильма об уникальном человеке, который способен запомнить все. Великий советский режиссер нашел собственное применение увиденному: методы и приемы запоминания, о которых ему рассказал Шерешевский, Эйзенштейн использовал при обучении актеров, которым предстояло запоминать огромные куски текста для роли. Эйзенштейн же предложил Шерешевскому выбрать сценическую карьеру – ездить по городам и демонстрировать свои уникальные способности.
Так Соломон Шерешевский стал профессиональным эстрадным мнемонистом, а в самом скором времени и артистом мнемонического жанра, известным всей стране. Его любимой аудиторией были студенты и врачи – Шерешевский не просто демонстрировал номера, показывающие чудеса его памяти, но и вступал в продолжительные научные дискуссии с врачами-психологами, пытавшимися с научной точки зрения объяснить природу его дара. Более того – он и сам активно изучал свои способности, разрабатывая методики и правила, которыми пользовался интуитивно. Например, при запоминании ряда понятий он мысленно «расставлял» их образы вдоль какой-то хорошо знакомой улицы – чаще всего улицы в Торжке, где прошло его детство. И таким образом мог, мысленно прогуливаясь по улице, вспоминать слова в нужном порядке.
 Обнаружилась и другая феноменальная особенность Шерешевского: Лурия выяснил, что мнемонист обладает способностью к синестезии, то есть «одновременному ощущению». Каждое слово имело для него вкусовые, зрительные и осязательные ощущения, а вкусы, звуки и образы, в свою очередь, вызывали ассоциации со словами и понятиями. Это, с одной стороны, позволяло практически бесконечно расширять возможности запоминания, с другой – забивало, перегружало ощущения Шерешевского: близкие вспоминали, что даже ложку он оборачивал тканью, чтобы звук ее соприкосновения с тарелкой не запускал связанные с ним образы.
Обнаружилась и другая феноменальная особенность Шерешевского: Лурия выяснил, что мнемонист обладает способностью к синестезии, то есть «одновременному ощущению». Каждое слово имело для него вкусовые, зрительные и осязательные ощущения, а вкусы, звуки и образы, в свою очередь, вызывали ассоциации со словами и понятиями. Это, с одной стороны, позволяло практически бесконечно расширять возможности запоминания, с другой – забивало, перегружало ощущения Шерешевского: близкие вспоминали, что даже ложку он оборачивал тканью, чтобы звук ее соприкосновения с тарелкой не запускал связанные с ним образы.
Пожалуй, единственным, что плохо запоминал Шерешевский, были человеческие лица – слишком, по его словам, изменчивые. Что касается голосов, они тоже связывались в его мозгу с разными образами – зрительными, осязательными. Мозг, который хранил всю когда-либо полученную информацию, стал мешать нормальной жизни в семье, общению с близкими. Шерешевский был крайне непрактичным, разучился вникать в суть явлений, а потому оказался перед необходимостью научиться забывать. Последнее оказалось самым сложным: загромождая память самыми разными событиями, выступая по три-четыре раза за один вечер, Шерешевский выяснил, что не так важно запомнить информацию, как стереть ее из памяти, забыть. Он разрабатывал алгоритмы «забывания», удаления из памяти, представляя грифельную доску, с которой стираются слова.
Последнее выступление на публике Соломона Шерешевского состоялось в 1953 году – уже на спаде интереса к его способностям. Он умер от острой сердечной недостаточности спустя пять лет. По всей видимости, возможности Шерешевского так и не были исследованы полностью. Феномен Шерешевского хорошо известен в профессиональной среде, но далекими от психологии людьми имя этого уникального мнемониста парадоксальным образом оказалось практически забыто. При этом многочисленные мнемотехники, используемые в настоящее время, изобретены либо самим Шерешевским, либо созданы на основе изучения его возможностей.
Владислав ТОЛСТОВ

